Клуб центральноазиатских государств (C5), исторически сложившийся как региональная площадка, на ноябрьской консультативной встрече в Ташкенте де-факто пополнился шестым участником — Азербайджаном. Так что теперь задним числом даже эпизод, в котором Ильхам Алиев неожиданно появляется в финале фильма «Борат» на фоне казахского флага, выглядит если не пророчеством, то как минимум намеком на такую развязку. Однако шутки в сторону — кажущееся неожиданным решение на самом деле имеет свою логику. Баку поэтапно выстраивал стратегическое партнерство со странами Центральной Азии, причем основой для сближения стали не абстрактные идеи, а практические интересы: общая зависимость от транзитных маршрутов, схожие внешнеполитические вызовы и взаимодополняемые экономики. Вместе с этим прагматичная и независимая политика Азербайджана демонстрирует странам региона рабочую модель взаимодействия с крупными державами без ущерба для собственного суверенитета.
Кейс Алиевых
Исторические связи между Азербайджаном и Центральной Азией существовали задолго до XX века. Общее тюркское происхождение и роль посредников на Великом шелковом пути создавали естественную основу для сотрудничества. Уже в советский период, когда административные границы были относительно условными, а Ташкент являлся неформальной «столицей» всего тюркоязычного Востока СССР, не только азербайджанские элиты, но и простые работяги охотно выбирали азиатский берег Каспия для, как сейчас говорят, релокации.
Численность азербайджанской диаспоры в странах Центральной Азии стремительно росла: в Узбекистане она в послевоенный период увеличилась с 3 тысяч до 50 тысяч человек, а в Казахстане — с 10 тысяч до 90 тысяч. Особенно охотно гости с Кавказа селились на Мангышлаке, где помогали поднимать местную нефтяную промышленность. По неподтвержденным данным, советский лидер Никита Хрущев, любовь которого к перекраиванию границ помнят в основном по передаче Украине Крыма, даже намеревался включить Мангышлакский полуостров в состав Азербайджанской ССР на том основании, что в Баку давно занимаются нефтяным промыслом.
После развала СССР в 1991-м всем его бывшим республикам пришлось решать одинаковый комплекс экономических и политических задач. Непонятно было, как управлять внезапно получившими независимость государствами в условиях краха советской системы хозяйствования, что делать с вооруженными силами и как выстраивать отношения с бывшей метрополией, которая никуда не делась. Азербайджану было, пожалуй, еще сложнее — на фоне войны за Карабах и политического хаоса страна балансировала на грани коллапса.
Приход к власти в Баку Гейдара Алиева в 1993 году несколько изменил правила игры. Вместо идеологии во внешней политике был выбран прагматизм. Алиев заморозил вооруженный конфликт с Арменией (причем, сделано это было в Бишкеке, где в мае 1994 года Баку и Ереван подписали протокол о прекращении огня), разогнал вооруженные формирования внутри страны, безжалостно подавил оппозицию и начал одновременно работать с Россией, Турцией и Западом, избегая исключительной зависимости от кого-либо. Это напоминало политику Казахстана или Узбекистана, но только проводилась она максимально жестко и, главное, последовательно — обстоятельства не позволяли расслабляться.
Продуманный подход сохранялся и в экономике. Если Баку и брал внешние кредиты на развитие инфраструктуры, то старался не залезать в долговую яму к тем же китайцам, как это сделали в свое время некоторые центральноазиатские страны, чьи финансовые обязательства перед КНР насчитывают десятки миллиардов долларов.
В 1994 году Азербайджан подписал с группой компаний из восьми стран мира «Контракт века» — соглашение о совместной разработке трех нефтяных месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли». Это шаг вызвал критику России, но ускорил интеграцию республики в мировую экономику и укрепил ее позиции на международной арене. С тех пор Баку зарекомендовал себя надежным производителем и поставщиком углеводородов, что в какой-то степени объясняет ту снисходительность, с которой Запад смотрит на нарушение прав человека в Азербайджане.
Политика Гейдара Алиева и его сына Ильхама позволила бывшей советской республике занять почти ту же нишу, в которой находятся нефтяные монархии Персидского залива, — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. Несмотря на далекие от западных либеральных ценностей местные порядки, с этими странами предпочитают не ссориться, позволяя им даже проводить такие знаковые мероприятия, как чемпионаты мира по футболу и заезды Формулы-1. Один из этапов самой авторитетной гоночной серии планеты, к слову, проводится и в Азербайджане.
Помимо прочего, тесное сотрудничество с Западом, куда мы в данном случае условно отнесем и Турцию, позволяет Азербайджану успешно противостоять политическому давлению Москвы, которая все еще иногда посматривает на весь Прикаспийский регион как на свою вотчину. Так что когда дело доходит до практически открытого конфликта — как это произошло после гибели самолета Azerbaijan Airlines в конце 2024 года, — Баку не тушуется и противостоит оппоненту как минимум на равных. История с самолетом может послужить весьма показательным примером и для центральноазиатских республик, которые наряду с Азербайджаном являются основными поставщиками рабочей силы на российский рынок и вынуждены в связи с этим при любом обострении решать вопросы защиты соотечественников за рубежом.
По сути, постсоветский путь Азербайджана и стран Центральной Азии — это во многом параллельные процессы. Все они прошли через поиск идентичности, построение национальной государственности и выстраивание сложного баланса в отношениях с Москвой. Но Баку, сумевший конвертировать природные ресурсы в реальную независимость, сегодня служит для партнеров из ЦА примером наиболее успешного кейса.
Шаги в коридоре
Укрепив внутреннюю стабильность, можно превращать ее в стратегический актив и на международной арене. Здесь снова на первый план выходит экономика, а именно — логистика. Конечно, углеводороды дают и средства, и влияние, но в долгосрочной перспективе транспортные маршруты имеют куда больший вес. На встрече в Ташкенте это проявилось особенно ярко: одной из главных тем для обсуждения в столице Узбекистана стал не просто межгосударственный диалог, но конкретный инфраструктурный проект — Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Срединный коридор».
Представьте себе: товар из Китая идет поездом через бескрайние степи Казахстана, грузится в порту Актау на паром, пересекает Каспийское море и прибывает в азербайджанский порт Алят — внушительный хаб на западном берегу Каспия. Оттуда путь китайского товара лежит через Грузию в Турцию и дальше, в Европу. Это и есть «Срединный коридор», альтернатива традиционному северному маршруту через Россию. Причем, после того как Москва начала свою «специальную военную операцию» в Украине и логистические цепочки через Восточную Европу оказались разорваны, значение транскаспийского маршрута стремительно выросло: если в 2021 году по нему было переправлено всего 600 тысяч тонн грузов, то в 2024 году — уже 3,3 миллиона тонн, и в текущем году показатели продолжали расти.
 Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Срединный коридор». Фото с сайта infotrans.by
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Срединный коридор». Фото с сайта infotrans.by
Выгода для всех участников очевидна. Для стран Центральной Азии это — долгожданное «окно в Европу», позволяющее диверсифицировать экспортные маршруты и снизить транзитные риски. Для Азербайджана — шанс закрепить за собой статус ключевого транспортного узла Евразии, получая стабильные доходы от логистики и развивая собственную инфраструктуру.
Партнерство в логистике дополняется энергетическим сотрудничеством. Европа, в условиях противостояния с Россией ищущая альтернативные источники газа, рассматривает вариант поставок из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан, используя уже существующую на Кавказе и в Малой Азии инфраструктуру Южного газового коридора. Об этом, например, говорила, посещая Баку летом 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая Азербайджан «ключевым партнером в наших усилиях по отказу от российского ископаемого топлива».
Как считает бывший латвийский дипломат, а ныне советник по внешней политике социал-демократической фракции Европарламента Эльдар Мамедов, визит фон дер Ляйен в Баку «развязал Алиеву руки на 100%», тогда как Брюссель пренебрег своими ценностями практически «задаром»:
«Алиев — опытный игрок, который очень грамотно играет на геополитических разломах между Западом и Россией».
Избавившись от необходимости следовать западным стандартам в части соблюдения прав человека, азербайджанский лидер помогает ЕС снизить энергетическую зависимость от России, одновременно содействуя Кремлю в преодолении изоляции на фоне западных санкций. Очевидно, похожая схема является рабочей и для стран Центральной Азии, но только в том случае, если они найдут способ ослабить логистическую привязку к России в ситуации, когда политическая конъюнктура этому благоприятствует.
Правда, как отмечают аналитики польского Центра восточных исследований имени Марека Карпа (OSW), реализация ТМТМ сталкивается с системными сложностями, что превращает ее в настоящий «логистический вызов». Ключевым препятствием является сама мультимодальная природа коридора, требующая постоянной перегрузки товара. Наиболее узким местом «Срединного коридора» является паромное сообщение через Каспийское море, пропускная способность которого ограничена и зависит от погодных условий.
Помимо «бутылочного горлышка» на Каспии, к рискам относятся разрозненная таможенная политика пяти стран-участниц, требующая беспрецедентного уровня координации, и острый дефицит инфраструктуры для контейнерных перевозок на отдельных участках, особенно в Грузии и Казахстане. Инфраструктура на отдельных сегментах маршрута, включая железнодорожное полотно и порты, остается устаревшей и требует модернизации. В результате, как заключают эксперты, время в пути по «Срединному коридору» может достигать 35-40 дней, что в два-три раза дольше, чем по Северному маршруту, а стоимость перевозки стандартного контейнера из Китая в Европу оказывается на 30-50% выше, подрывая экономическую конкурентоспособность проекта без масштабных внешних субсидий.
На ноябрьской встрече в Ташкенте президенты стран Центральной Азии и Алиев как раз договорились продолжить работу по устранению административных барьеров и упрощению налоговых и таможенных процедур на ТМТМ. Эти шаги могут быть прописаны в региональной программе торгово-экономического взаимодействия стран Центральной Азии до 2035 года, разработать которую, уже, разумеется, в компании Азербайджана, предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По его мнению, принятые меры помогут уже в среднесрочной перспективе увеличить внешнеторговый оборот стран региона как минимум в полтора-два раза.
 Участники седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Центре исламской цивилизации Узбекистана, 15 ноября 2025 года. Фото пресс-службы президента Азербайджана
Участники седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Центре исламской цивилизации Узбекистана, 15 ноября 2025 года. Фото пресс-службы президента Азербайджана
Что же касается внешних субсидий, то и тут есть варианты.
Новая «Большая игра»
В начале ноября правительства стран Центральной Азии объявили, что намерены «укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок за счет полного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и его интеграции с «Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP)». Это заявление последовало сразу за встречей в Вашингтоне, где президент США принял своих центральноазиатских коллег и стороны, помимо заключения деловых соглашений на миллиарды долларов, наговорили друг другу кучу любезностей.
США уже давно зондировали возможность создания логистических цепочек через Центральную Азию в обход России и Ирана, так что, когда летом этого года при участии Дональда Трампа было подписано мирное соглашение, завершившее Карабахский конфликт, в него вошло положение о строительстве стратегического транспортного коридора, соединяющего Баку с Нахичеванью — азербайджанским эксклавом на границе с Ираном и Турцией — через армянскую территорию (Зангезурский коридор). Это и есть TRIPP.
Предполагается, что управление «Маршрутом Трампа» на срок до 99 лет будет передано американской компании. Кроме строительства железной дороги по указанному маршруту, соглашение предусматривает прокладку газопровода, нефтепровода и оптоволоконного кабеля. В сентябре высокопоставленный представитель Госдепа США посетил Ереван и объявил, что США выделят 145 миллионов долларов для начала работ над маршрутом, который в перспективе соединит Турцию кратчайшим путем с Азербайджаном, а через него (правда, снова паромами) Анкара и Вашингтон получат выход и на Центральную Азию.
Для США этот проект представляет стратегический интерес сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он позволяет создать постоянный канал влияния в регионе, где традиционно доминируют Россия и Китай. Во-вторых, появляется возможность перехватить инициативу у китайского «Пояса и пути», предложив альтернативную и более продвинутую логистическую модель. Наконец, это соответствует общей стратегии сдерживания Ирана, поскольку маршрут сознательно проектируется в обход его территории. Со своей стороны и ЕС тоже видит будущую дорогу частью «Срединного коридора», соединяющего Европу с Центральной Азией и Китаем. Последнему же по большому счету выгодны любые проекты, которые связывают транспортными коридорами рынок Поднебесной со странами Запада.
В Тегеране и Москве планы американцев вполне предсказуемо вызвали довольно нервную реакцию. Советник духовного лидера исламской республики, в частности, заявил, что Иран не допустит реализации TRIPP, и пригрозил превратить его «в могилу для наемников Дональда Трампа».
Сейчас трудно прогнозировать, чем обернется американская инициатива — слишком много на ее пути предстоит согласований и слишком серьезные игроки не заинтересованы в усилении роли США в регионе. Однако и Азербайджан, и страны Центральной Азии разделяют повышенный интерес к этому проекту. Для них это не просто вопрос логистики, а возможность совместно усилить свои переговорные позиции на международной арене.
Выступая на ноябрьской встрече в Ташкенте, Ильхам Алиев сообщил, что строительство TRIPP на территории Азербайджана идет к финалу:
«Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора».
В свою очередь президент Казахстана после ноябрьских переговоров с премьер-министром Армении Николой Пашиняном тоже выразил заинтересованность в TRIPP, отметив:
«Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает возможность для укрепления регионального сотрудничества».
Можно сказать, что солидарный интерес стран C5+1 к проекту TRIPP отражает и общий подход к выстраиванию отношений с ключевыми игроками. И Баку, и Астана, и Ташкент рассматривают Вашингтон как важного, но не единственного партнера. Они готовы развивать транспортное сотрудничество в рамках «маршрута Трампа», параллельно сохраняя диалог с Россией — будь то в рамках ЕАЭС, ОДКБ или через двусторонние консультации. То же самое касается отношений с другими центрами силы. Например, стратегическое партнерство Азербайджана с Турцией полностью соответствует курсу центральноазиатских государств на углубление сотрудничества с Анкарой в рамках тюркской интеграции. При этом никто не спешит разрывать традиционные связи — ни с Москвой, ни с Пекином.
«Маршрут Трампа» в этом контексте становится не просто американским предприятием, а рычагом влияния для самого региона. Единая позиция Азербайджана и стран ЦА позволяет им действовать настолько гибко, насколько позволяют условия международного сотрудничества. Именно такой гибкости не хватало бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову, который при всей своей тяге к «многовекторности» был чрезвычайно консервативен и косен, в первую очередь в отношениях с ближайшими соседями.
Гибкость при этом вовсе не означает уступчивость. Здесь опять-таки показателен пример недавнего конфликта между Москвой и Баку, когда Алиев продемонстрировал, что в игру, построенную на уголовном преследовании и прессинге, могут играть двое. Ведь то, что «новая Большая игра» в Центральной Азии и на Южном Кавказе уже идет, причем идет давно, это понятно, но теперь ее правила пишут и местные участники.
Новые правила
В связи с этим возникает любопытный парадокс: пока геополитические тяжеловесы меряются влиянием, настоящую партию могут выиграть те, кого привыкли считать пешками. Азербайджанский «апгрейд» центральноазиатского клуба — это не просто тактический ход, а демонстрация нового регионального паттерна: когда составы с контейнерами начинают определять расклад сил покруче дипломатических нот, это значит, что правила, возможно, поменялись.
Вместо традиционного выбора «с кем быть» Баку и его партнеры могут запустить более изящную схему: брать у всех, но платить собственной валютой — доступом к транспортным коридорам. Турция получает выход к тюркскому миру, Китай — новые нити для своего Шелкового пути, Штаты — плацдарм для сдерживания конкурентов, а страны региона — стабильный доход и гарантии безопасности.
Тенденция к такому развороту очевидна: если раньше в повестке были «сферы влияния», то теперь говорят о «синхронизации таможенных процедур» и «снижении логистических издержек». Можно одновременно дружить с Анкарой, торговать с Пекином, получать инвестиции из Вашингтона и даже сохранять рабочие отношения с Москвой — если твоя позиция выстроена не на идеологии, а на трезвом расчете. Вероятно, именно это и есть главный экспортный продукт Баку в Центральную Азию — не газ и не нефть, которых и на востоке от Каспия хватает, а формула, как оставаться самим собой в мире великих держав.
-
 16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре
16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -
 13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию
13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -
 10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой
10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -
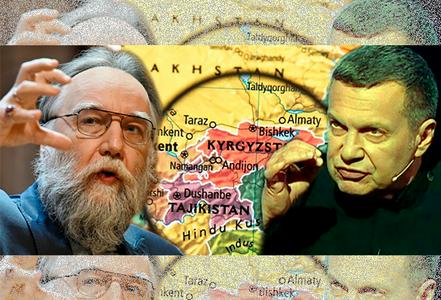 19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?
19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -
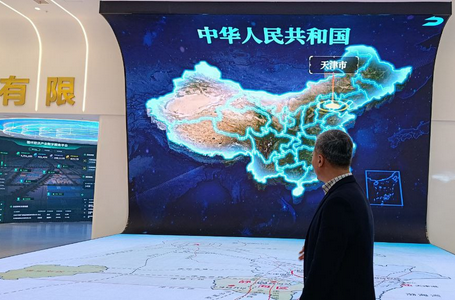 24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики
24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики -
 22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет
22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет






